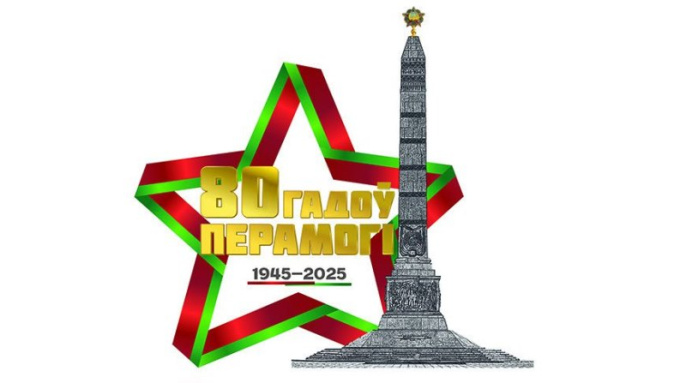На лацкане жакета, который изредка надевает Глафира БОНДАРЕНКО, среди юбилейных медалей, есть награда, ценность которой определить невозможно – «Узник нацизма». Глафира Илларионовна была в числе тех 50 тысяч человек, которые оказались в самом эпицентре гитлеровских «экспериментов» – в концлагере «Озаричи»…
Глафира БОНДАРЕНКО: «Мир – одна из самых больших ценностей на земле. Нужно всеми силами его беречь»
«Там завидовали мёртвым», – даже спустя годы слова узников «Озаричского лагеря смерти» приводят в дрожь. Концлагерь, который просуществовал 10 дней, унёс жизни более 20 тысяч человек. Если бы лагерь продержался ещё столько же, если бы не советские солдаты, которые освободили пленных, погибли бы все полсотни тысячи человек… И мы бы не узнали всю правду из первых уст.
Глафире Бондаренко (в девичестве – Костюкевич) в то время было всего 6 лет. Конечно, она была слишком маленькой, чтобы помнить всё в подробностях, но кое-что детская память смогла запечатлеть.
Немного истории. В марте 1944 года 9-я армия вермахта под командованием Йозефа Харпе организовала 3 временных лагеря вблизи населённых пунктов Дерчь, Озаричи и Подосинник. Комплекс известен как «Озаричский лагерь смерти».
В Озаричах фашисты впервые в мире массово применили бактериологическое оружие – сыпной тиф. Подготовка этого оружия началась ещё осенью 1943 года. По задумке создателей, в роли «тифозных мин» против советских солдат свыше полусотни тысяч зараженных беспомощных людей.
Территорию смерти огородили колючей проволокой, со всех сторон заминировали и согнали сюда малолетних детей (их было большинство, в этом заключалась особенность концлагеря), женщин, стариков и тяжело больных. Всех, кого фашисты считали нетрудоспособными. Заражённые тифом люди должны были стать живым щитом на пути Советской армии. Узников держали под открытым небом без воды и пищи, их охраняли три фашистских дивизиона. На вышках дежурили круглосуточно солдаты, стрелявшие без предупреждения в нарушителей запретов. Нельзя было даже собрать веток и разжечь костёр, чтобы согреться. Люди спали на промёрзшей земле. Не разрешалось хоронить мёртвых, трупы первые дни сами узники складывали в одно место. Когда узники обессилели, безжизненные тела лежали по всему лагерю. По особенностям содержания людей во времена Второй мировой войны аналогов «Озаричам» не было. Даже в Освенциме и Бухенвальде узники, обречённые на смерть, имели крышу над головой и хоть какую-то еду.
…Эпидемия все же коснулась 19-го корпуса, солдаты которого участвовали в освобождении лагеря. Есть данные, что в локализации эпидемии участвовали три тысячи солдат, тысяча из которых заразилась. Более 100 человек умерли. Распространить сыпной тиф в таком масштабе, как планировалось, не удалось. Но это не отразилось на фронтовых событиях: советские войска продолжали своё наступление.
(По материалам БЕЛТА)
«Идите, мои детки, а я уже не могу»
Семья Глафиры Илларионовны жила в деревне Растов Октябрьского района. Великая Отечественная война отобрала у неё отца и старшего брата. Как и где они погибли и похоронены, никто не знает.
Когда немцы стали приводить в действие кровавый план для жителей Полесья, старшим сёстрам Глафиры удалось укрыться в лесу. Дома были дедушка, мама и четверо младших детей (мальчикам – по 10 и 8 лет, Глафире – 6, а младшей девочке – 4). Жителям деревни немцы приказали идти в конец Растова. Собралось много односельчан. Всех построили друг за другом и погнали под дулами винтовок и в сопровождении собак в концлагерь «Озаричи». Люди шли довольно быстро. От деревни до лагеря было почти 30 километров. Кто отставал от колонны, сразу убивали. Дедушка Глафиры тоже не смог долго двигаться, остановился и сказал: «Идите мои детки, а я уже не могу». Сел на окраину дороги, его немцы тут же пристрелили.
…В концлагере едва не убили и мать с детьми. Глафира Илларионовна не знает, за что. Семью Костюкевичей поставили в ряд, немец навёл винтовку на малышей. Мать стала плакать и просить, чтобы в её первую стреляли, не хотела видеть, как на её глазах гибнут дети. Но неожиданно подошёл немец, весь в крестах, посмотрел, что-то «гаркнул» палачу по-немецки – и их отпустили.
Как семье удалось выжить в тяжелейших условиях в «Озаричах»? Позже мать вспоминала, что, скорее всего, помогла… полусухая навозная куча, которая лежала на территории лагеря. Женщина «выстроила вокруг детей ограду из «органики», которая спасала их от холода (они жили под открытым небом). Муж Глафиры Бондаренко, Виктор Григорьевич, высказал мнение, что смесь газов, которые выделялись из навоза, могли стать преградой и для бактерий тифа. Может быть, поэтому все остались живы. А их сосед и четверо детей, которые тоже оказались в «Озаричах», там погибли.
…Почти весь Растов в войну сожгли, дом Костюкевичей уцелел, потому что в нём квартировались немцы, а в сарае стояли их лошади. Было куда вернуться после концлагеря ослабленным, больным, голодным… Хозяйка долго не прожила. Глафира Илларионовна не знает, во сколько лет умерла её мама. Не осталось даже фотографии. Воспитанием младших детей занимались старшие сёстры.
«Война не пощадила моих родных»
«Я и моя семья не была в «Озаричах». Но война не пощадила моих родных. Отец был в партизанском отряде, погиб. Старший брат воевал на фронте, за взятие Кёнисберга был удостоен ордена Красной Звезды, – присоединился к разговору Виктор Бондаренко. – Во время войны, за ночь, двое моих братьев умерли от тифа. Нас с братом болезнь тоже накрыла, но удалось остаться в живых
Мы тогда жили в деревне Подлуг Любанского района (до Растова – примерно 20 километров – авт.). Нам пришлось убежать в лес, там прятались, а вблизи деревни шли бои. Партизаны в наш дом приносили раненых. Вскоре дом немцы сожгли вместе с бойцами. Когда мы возвратились домой, увидели пожарище. Обгорелых людей мама сама хоронила».
Жить было негде, Бондаренки немного побыли у бабушки (по отцовской линии). Вернулись к себе, вырыли яму возле сожжённого дома и стали в ней жить. Землянку «погребом» называли.
«Еды не было. Гнилую картошку по полю собирали. И даже пытались что-то из неё готовить, ели – песок на губах трещал. Помню, сделали ловушку для воробьёв, ловили их, жарили и ели. А если ёжика удавалось поймать – закатывали «пир» на весь мир, – от воспоминаний собеседника холодеет внутри. – Вот где была жизнь! Когда сегодня говорят, что сложно жить, слушать не хочу. Так говорят те, кто настоящих трудностей не видел».
«Мы счастливы, потому что до сих пор вместе»
С военной темы мы перешли к романтической. Бондаренки рассказали об истории их знакомства. Виктор работал в лесной промышленности. Однажды приехал из Подлуга в Растов в командировку, на заготовку леса. Познакомились на танцах. Глаша тогда работала почтальоном. Год был встречались, Виктор приезжал к Глаше домой, писал письма. «Наши отношения были трепетные, искренние. Никаких вольностей не позволяли. В 1962 году (нам было по 24 года), на православное Рождество, справили свадьбу. Родные, друзья пришли. Кто что имел, то и принёс для праздничного стола, сами что-то приготовили», – вспоминают собеседники.
Стали Бондаренки жить в Подлуге. Через год родился первый сын, в 1966 – второй, а в 1970 – третий. Из Любанщины перебрались в Речицу, прожили там 20 лет. А в Сморгони приехали в 1995-м вслед за взрослыми детьми. Все они решили поселиться в нашем райцентре.
«Мы счастливы, потому что до сих пор вместе, – улыбается Глафира Бондаренко. – Дети рядом. Пятеро внуков и трое правнуков у нас есть. Мирное небо над головой. Мир – одна из самых больших ценностей на земле. Нужно всеми силами его беречь».
Галина АНТОНОВА
Фото автора