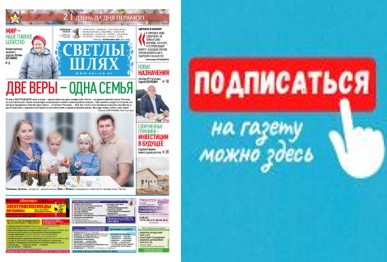Воспоминания пожилых людей, чьё детство пришлось на Великую Отечественную войну, – это истории невероятного мужества, лишений и надежды. Многие из них пережили оккупацию, бомбёжки голод и холод. Некоторые, как наша героиня – 88-летняя Татьяна ПЕТУХИНА (в девичестве – ЧУМАНИХИНА), – в пять лет вместе с мамой и сёстрами попала в концлагер в Брянске, а потом жила в лесу, пока Красная армия не освободила белорусские земли от немецко-фашистких захватчиков.
Татьяна Петухина: «Наше главное богатство – мир»
Одна из самых частых фраз, которая звучит из уст детей войны: «Мы не играли – мы выживали». Вместо игрушек – военные трофеи, вместо школы – тяжёлый труд.
Болото было местом спасения
Родилась Татьяна Яковлевна в 1937 году в селе Погост Калужской области Кировского района. Когда началась война, её отец сразу ушёл на фронт, а мать с шестью дочками осталась в родном селе. Старшей тогда было 18 лет, а младшей – только годик исполнился.
«Вскоре пришли немцы – и нас отправили в концлагерь в Брянск, а после товарными поездами перевезли в Беларусь, в Слоним. С плена осенью 1943 года нас освободили партизаны из отряда имени Пономаренко. С того времени и до освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков мы жили в лесу. Мои три старшие сестры сотрудничали с партизанами, передавали информацию, помогали, как могли, – вспоминает Татьяна Яковлевна. – Я слабо помню военное время. Мама рассказывала, что мы жили в землянках, от паразитов, комаров и жуков на нас живого места не было. Все худые… Не скажу, что совсем голодные, потому что партизаны помогали продуктами, даже мясом: корова заблудится какая в лесу – к нам ведут. Бывало, лошади на минах взрывались – тоже нам их притаскивали. Еду готовили на кострах. Да и сам лес поддерживал – грибами, ягодами, травами, орехами...».
– Немцы! Немцы! Бегите на болото! – услышали они от партизан, которые стали для мирного населения родными людьми.
Они похватали свои скромные пожитки и направились за лес, в сторону болота. Кто-то бежал, кто-то шёл с трудом… День отсиделись и вернулись назад в лес.
Так случалось не единожды. Всякий раз, когда немцы приближались к лесу, партизаны сигнализировали – и люди снова направлялись в «места спасения». Немцы в болото не лезли, боялись, но иногда стреляли в сторону обезоруженных детей, стариков, женщин. Бывало, в болоте приходилось засиживаться по несколько дней – без еды и питьевой воды. Промокали до нитки. Когда жажда душила, пили болотную воду. Детей ею поили через тряпку.
Чтоб ещё больше напугать немцев, люди шли на хитрость: выставляли знаки «ТИФ!». Фашисты этой болезни страшно боялись. Сразу разворачивались и уходили.
Минуты отчаяния
Чуманихины не были одиноки в своём горе, в своих переживаниях, и это осознание было источником силы. Чувство общности, поддержки и понимания помогали справляться с болью и находить в себе ресурсы для движения вперёд. Тем не менее, были и минуты отчаяния. Однажды после войны мама заплакала и призналась: «Вы меня простите, доченьки, но был момент, когда я для вас смерти у Бога просила... Так жутко было и тяжело, но только спасибо Ему, что не послушал меня тогда», – смахивая слёзы, вспоминает Татьяна Яковлевна.
День освобождения особенно сохранился в памяти маленькой Тани. По всему лесу стоял радостный гул. Таня от страха держалась за мамин подол, а все вокруг куда-то бежали, спешили, что-то кричали... Когда мать с девочками оказались на дороге и увидели советские танки, стало понятно, почему вокруг все так радуются, обнимаются, целуются. Невероятное веселье!
«Ищите дядечку с усиками»
Когда стали возвращаться с фронта солдаты, Таня с младшей сестрой каждый день высматривала среди них отца. Но как его узнать? Мама сказала: «Ищите дядечку с усиками». Они и искали. К каждому усатому солдату с вопросом приставали: «Вы не наш папа?». Кто-то улыбался, кто-то смотрел с тоской...
«Наконец, отец вернулся. Покалеченный, но живой! У него были ранены ноги, до конца жизни страдал от боли в конечностях, – продолжает свой рассказ Татьяна Петухина. – После войны почти все наши родственники поехали обратно домой, в Россию, а папа решил остаться в Беларуси. Мы стали жить в Ивацевичах. Когда повзрослели, раскидала нас жизнь по разным городам. Анечка до сих пор живёт в Вологде (ей уже больше 90 лет), младшая Настенька – в Борисове, ей 85 лет.
Самая старшая сестра Дуся всё время прожила в Архангельской области, там она и похоронена. Я длительное время тоже жила на Севере, на родине мужа. Нет в живых и Катерины, которая осталась жить в Ивацевичах, и Марийки, благодаря которой и мы всей семьёй оказалась в Сморгони. В 1960-е годы она приехала работать на Сморгонский силикатный завод, который чуть позже возглавила.
В 1973 году умер мой отец. Я с семьёй приехала на похороны. Марийка, как только увидела моих детей – дочь и сына, бледных, болезненных, сразу начала уговаривать переехать в Сморгонь. Мол, климат здесь и условия жизни лучше. Я вначале пробовала поспорить: на Севере можно большие деньги заработать, машину купить, но сестра переубедила. Буквально через два месяца мы оказались в Сморгони. Мария нас поддерживала, как могла.
На Севере я работала сначала няней, потом воспитателем, а в Сморгони устроилась контролёром на силикатный завод, отработала два года, а потом 20 лет – кастеляншей в детском саду. Муж поначалу тоже работал на силикатном заводе – завгаром, а потом – ведущим конструктором на СЗОСе».
Вот уже 20 лет как Татьяна Яковлевна – вдова. Живёт в Сморгони на улице Красноармейской, в живописном месте с видом на городской парк и водоём. Она окружена заботой родных.
«Конечно, на нынешнюю жизнь грех жаловаться. Наше главное богатство – мир. Нет ничего дороже мира. И нет ничего страшнее войны, которая забрала детство и у меня, и у тысячи детей».
Галина АНТОНОВА
Фото автора и из архива Татьяны ПЕТУХИНОЙ